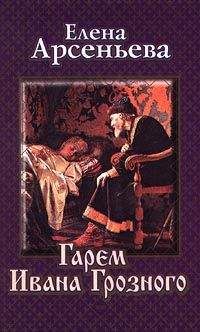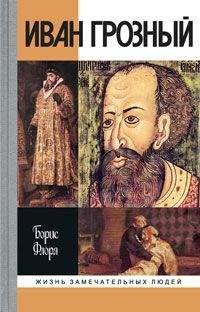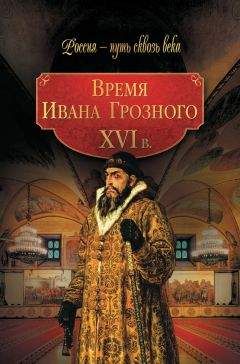Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]
Правда, Воротынский теперь вроде не был опальным. Царь простил его, давно вернул из Кирилло-Белозерского монастыря… Не было у царя поводов карать его за что-то, однако сердце Михаила Ивановича при виде Бомелия все же екнуло.
Прозорливый лекарь понимающе усмехнулся.
– Напрасно, сударь, сторонишься меня, – сказал он почти ласково. – Больно смотреть на твои страдания, больно слышать, сколько дурней неумелых, знахарей так называемых, губят твое здоровье – а толку чуть. Попробуй эту мазь – а через месяц сам увидишь, что будет.
«Не причаститься ли для начала Святых Таин?» – едва не спросил прямолинейный Воротынский, однако он был гордец, а потому не мог показать Бомелию, что откровенно боится. Во всяком случае, решил сразу после ухода непрошеного спасителя выкинуть его мазь в отхожее место, однако Бомелий, с прежней доброжелательной улыбкою, настоял на том, чтобы начать лечение незамедлительно. И, тотчас же зачерпнув малое количество мази из корчажки, в которой ее принес, начал натирать больные ноги Воротынского: ломаные, битые, застуженные. Боль у Михаила Ивановича улеглась почти мгновенно – уже оттого, что лекарь сам брал мазь в руки. Значит, ежели она отравлена, купно с Воротынским отправится к праотцам и Бомелий. А в это плохо верилось…
«Поживем еще, пожалуй!» – подумал старый вояка – и не ошибся. Спустя месяц он и думать забыл о старых немочах и также о том, как числил Бомелия во врагах. Ощущение молодой подвижности суставов было таким восхитительным, что князь счел необходимым самолично отправиться к государеву архиятеру и выразить ему свою благодарность. Было сделано и подношение соответствующее: о пристрастии дохтура Елисея к стеклянным иноземным изделиям знали все, а у Воротынского среди боевой добычи сыскались дивные италийские бокалы, захваченные когда-то крымчаками в разоренной Кафе Генуэзской[34]. Бомелий оценил степень благодарности Воротынского, и оба отличным образом отведали из этих бокалов фряжского винца, которое возвеселило их сердца и развязало языки.
Когда Воротынский только входил в дом, он заметил мелькнувшую в сенях девушку со скромно потупленными глазками и рыжеволосой головкой. Теперь, разнежившись в почете и радушии, счастливый тем, что, можно сказать, завел дружбу с могущественным и опасным Бомелием, князь Михаил Иванович позволил себе пошутить насчет молоденьких пригоженьких гостий, которые порою захаживают в дома холостяков.
Бомелий взглянул изумленно:
– О ком ты, сударь? Об Анхен, что ли?! Господи, да ведь это бедная сиротка, которая иногда заходит ко мне за добрым советом. Несчастное дитя! Отец ее, Василий Васильчиков, был храбрым воином… не столь храбрым, конечно, как ты, князь, однако же и он безмерно отличился при осаде Казани и взрыве Арской крепости. Слышал я, был он жестоко ранен, спасая жизнь некоему воеводе, однако, как это часто водится, оказался забыт в пылу сражения. Выжил чудом! Но силы его уже были подорваны. Скоро пришел ему конец, а вместе с ним и его семейству. Анхен пригрели в Немецкой слободе. Какая жалость, что тот воевода, который обязан жизнью ее отцу, ни разу не вспомнил о своем долге! Конечно, это все понятно: воин сей всецело посвятил себя сражениям и битвам, где ему помнить о такой малой малости, как жизнь бедной девицы! Однако известно, что слезы обиженных сирот отягощают чашу грехов наших. А утереть эти слезы никогда не поздно. Поверь, Михаил Иванович, если бы я узнал о том, что грех неблагодарности исправлен, это было бы мне самой драгоценной наградою.
Воротынский вовсе не был безголовой дубиною. Он умел понимать намеки, а потому нацепил на себя столь же задумчивую и печальную личину, какую вздел Бомелий, и пообещал непременно позаботиться о сироте, дать ей денег, что ли, а то и в дом принять. Вроде бы жена что-то такое говорила: прислуги в поварне недостает.
И тогда Бомелий, приветливо глядя прямо в глаза Воротынского, мягким, проникающим в самую душу голосом сказал, что подвиг Василия Васильчикова заслуживает куда большего. Дочь его достойна служить во дворце… а всем известно, что отказать просьбе знаменитого воеводы, только что поднявшегося с одра болезни и готового к новым сражениям с крымчаками, ни государь, ни государыня не смогут.
3. Звезды не лгут
Вот и настал час, о котором давно и настойчиво предупреждали звезды! И что теперь делать? Смириться пред их волею или попытаться обмануть судьбу?
Эта мысль первая мелькнула у архиятера Элизиуса Бомелиуса, когда он узнал страшную новость: гонец Ордена перехвачен в Новгороде.
Иисусе сладчайший, где угодно, только бы не там! Архиепископ Новгородский Леонид был одним из тех, на кого отцы иезуиты смотрели с восторгом и умилением как на лучшее произведение своих рук, Бомелий даже порою ревновал: он ежедневно и ежечасно находился в теснейшем общении с жестокосердым московским царем, подобно христианину, выходившему на арену, полную львов и тигров, и это воспринималось пославшими его как должное. А восторг перед Леонидом зиждется лишь на презренном металле. Тайный католик, тайный иезуит, архиепископ сей скрытно переплавлял в Новгороде русское серебро и чеканил из него деньги для польских и шведских королей.
Чудилось, только одно делал Леонид явно: предавался самому разнузданному пороку. На его подворье открыто обитали пятнадцать молодых и красивых женок – юродивых, кликуш, которые завывали на разные голоса, пророчествуя всякую всячину, от падения хвостатой звезды до падения государева дома. Последнее сулилось столь часто, что на это перестал обращать внимание даже царевич Иван, которому в последние годы был отдан под управление Новгород.
Бомелий знал жестокий цинизм государева сына и наследника. Они с Леонидом были в этом смысле два сапога пара! Если Ивану было любо наблюдать за глубоким внутренним падением человека, которого притихшие после погрома новгородцы почитали своим духовным отцом, то сам Леонид, чудилось, нарочно переполнял чашу грехов своих, дабы испытать: сколько еще будет терпеть Господь, наблюдая за ним? А главное, Леонид с потрохами продался отцам иезуитам, причем наслаждался своим ренегатством даже больше, чем наградами, которые получал из Вильно и Варшавы вполне регулярно, и лелеял мечту о тех временах, когда суровое, изжившее себя православие русское вынуждено будет потесниться, а потом и вовсе отступить под натиском истинной веры. А начнется путь ее по России с Новгорода…
И вот чуть ли не на подворье этого «своего» перехвачен опасный гонец!
Услышав об этом, Бомелий в первое мгновение испытал отнюдь не страх – новость была слишком ошеломляющей, чтобы вульгарно испугаться, – а странное удовольствие собственной прозорливостью и предусмотрительностью. Ведь принесла эту весть не кто иная, как Анхен, Аннушка Васильчикова, сенная девушка государыни. Как прав, Господи, как же прав оказался Бомелий, постаравшийся засунуть ее во дворец! Девчонка совершенно случайно подслушала донос Умного-Колычева Годунову, которому следовало немедля сообщить об этом самому государю. И тотчас же понеслась предупредить своего благодетеля – иначе она не называла герра Бомелия, прекрасно зная, кто именно заставил Воротынского вспомнить наконец о старинном долге. Да, Анхен отблагодарила благодетеля… отблагодарила с лихвой!